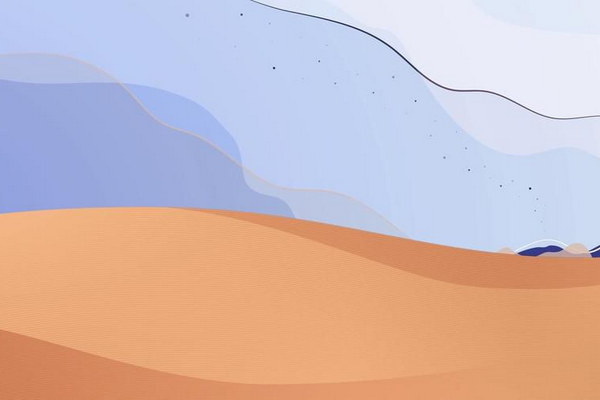Пазолини. Строфы завещания
Одиночество. Нужно быть очень сильным,
чтобы любить одиночество; нужно иметь хорошие ноги
и выносливость выше средней; нельзя рисковать
простудой, гриппом или больным горлом; нельзя бояться
грабителей и убийц; если нужно быть на ногах
весь день и, быть может, весь вечер,
нужно уметь делать это, не замечая; сидеть здесь негде;
в особенности зимой, когда ветер колышет влажную траву,
и мусор разбросан на мокрых, грязных камнях;
и несомненно, нет никакой возможности отдохнуть или утешиться;
разве что только тем, что впереди — весь день и вся ночь
без каких-либо ограничений или обязательств.
Секс — только предлог. Сколько бы ни было таких встреч —
а их даже зимой, на улицах, брошенных на произвол ветра,
среди куч мусора на фоне далеких высоток,
бывает много — все они всего лишь мгновения одиночества;
чем горячей и живей нежное тело,
что окропит тебя семенем и отдалится,
тем холодней и смертельней восхитительная пустыня вокруг;
и это наполняет тебя счастьем, как чудотворный ветер —
не невинная улыбка или беспокойное высокомерие
того, кто уходит; он уносит с собой свою юность,
неимоверно юную; в этом есть что-то нечеловеческое,
потому что он не оставляет следов, вернее, оставляет только один след,
он всегда одинаков, в любой сезон.
Юноша в цвете своих первых любовей —
ничто иное, как плодородие мира.
Это мир приходит вместе с ним, появляется и исчезает,
как изменчивая форма. Все остается таким же,
и ты можешь оббегать полгорода вдоль и поперек, но уже никогда его не найдешь;
акт завершен, его повторение будет обрядом. Поэтому
одиночество еще сильнее, когда вокруг тебя — толпа,
и каждый ждет своей очереди; растет количество исчезновений —
уходов и бегств — и каждая будущая встреча нависает над настоящей,
как долг, как жертва, которую нужно принести жажде смерти.
Однако, когда ты стареешь, начинает чувствоваться усталость,
особенно в час сразу после ужина, хотя
для меня ничего не изменилось, я готов закричать или заплакать из-за пустяка,
и это было бы ужасно, если бы дело было не в простой усталости
или, может быть, в голоде. Ужасно потому, что это бы означало,
что твоя жажда одиночества не могла бы быть удовлетворена,
что ждет тебя впереди, если то, что не считается одиночеством
и есть истинное одиночество, то, что ты не способен принять?
Никакие обед, ужин или удовлетворение в мире
не могут сравниться с прогулкой без конца по бедным улицам,
где нужно быть несчастным и сильным, как родня уличным псам.
чтобы любить одиночество; нужно иметь хорошие ноги
и выносливость выше средней; нельзя рисковать
простудой, гриппом или больным горлом; нельзя бояться
грабителей и убийц; если нужно быть на ногах
весь день и, быть может, весь вечер,
нужно уметь делать это, не замечая; сидеть здесь негде;
в особенности зимой, когда ветер колышет влажную траву,
и мусор разбросан на мокрых, грязных камнях;
и несомненно, нет никакой возможности отдохнуть или утешиться;
разве что только тем, что впереди — весь день и вся ночь
без каких-либо ограничений или обязательств.
Секс — только предлог. Сколько бы ни было таких встреч —
а их даже зимой, на улицах, брошенных на произвол ветра,
среди куч мусора на фоне далеких высоток,
бывает много — все они всего лишь мгновения одиночества;
чем горячей и живей нежное тело,
что окропит тебя семенем и отдалится,
тем холодней и смертельней восхитительная пустыня вокруг;
и это наполняет тебя счастьем, как чудотворный ветер —
не невинная улыбка или беспокойное высокомерие
того, кто уходит; он уносит с собой свою юность,
неимоверно юную; в этом есть что-то нечеловеческое,
потому что он не оставляет следов, вернее, оставляет только один след,
он всегда одинаков, в любой сезон.
Юноша в цвете своих первых любовей —
ничто иное, как плодородие мира.
Это мир приходит вместе с ним, появляется и исчезает,
как изменчивая форма. Все остается таким же,
и ты можешь оббегать полгорода вдоль и поперек, но уже никогда его не найдешь;
акт завершен, его повторение будет обрядом. Поэтому
одиночество еще сильнее, когда вокруг тебя — толпа,
и каждый ждет своей очереди; растет количество исчезновений —
уходов и бегств — и каждая будущая встреча нависает над настоящей,
как долг, как жертва, которую нужно принести жажде смерти.
Однако, когда ты стареешь, начинает чувствоваться усталость,
особенно в час сразу после ужина, хотя
для меня ничего не изменилось, я готов закричать или заплакать из-за пустяка,
и это было бы ужасно, если бы дело было не в простой усталости
или, может быть, в голоде. Ужасно потому, что это бы означало,
что твоя жажда одиночества не могла бы быть удовлетворена,
что ждет тебя впереди, если то, что не считается одиночеством
и есть истинное одиночество, то, что ты не способен принять?
Никакие обед, ужин или удовлетворение в мире
не могут сравниться с прогулкой без конца по бедным улицам,
где нужно быть несчастным и сильным, как родня уличным псам.
Метки: