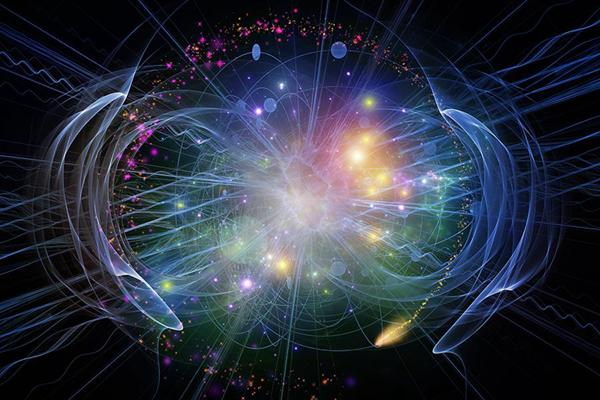нью-йорк
НЬЮ-ЙОРК
Новобранцев весны надо мной эта потная битва,\мерным маршем идут облака к океану, как влажные флаги,\мое сердце насквозь тоже синей картечью пробито -\я умру как они, мне достанет на гибель отваги. Александр Алейник У меня на глазах зацветают деревья Нью-Йорка.
Мы доверчивы — фразою броской\ Нас Нью-Йорк привлекает и Лондон.\ Нам покажут портрет Новодворской —\ Мы поверим, что это — Джоконда. Надежда Полякова ?Нева? 2007, №11 Мы доверчивы — фразою броской
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ИВЕРСКИЙ СВЕТ 1984
ОДА НА ИЗБРАНИЕ
В НЬЮ-ЙОРКСКУЮ АКАДЕМИЮ
Я в Академию есмь избран.
?Год дэм?, — скажу я,
боже мой!
Всю жизнь борюсь с академизмом —
Теперь борюсь с самим собой.
Николай Алексеевич Тарусский (1903-1943) Знак земли: Собрание стихотворений 2012
Я ПЛЫВУ ВВЕРХ ПО ВАС-ЮГАНУ Стихотворения 1928–1934
МАТРОС И ТРАКТИРЩИК Поэма
Сумятица!
Шаг за шагом,
Они подбирались вплоть:
Столы, табуреты, старцы
Завыли:
?Чужак! Чужак!?
Уж воздуха не хватает.
Уж страха не побороть.
Уж кровь, как кузнечик, звонко
Трещит в висках и ушах.
Колдуют!
Да что бы это сказать им?
Каким словцом
Отделаться от наважденья?
Как быть, чтобы вой умолк?
Приблизились,
Окружили,
Охватывают кольцом.
И вот,
Раздувая ноздри,
Он бросил врагам:
?Нью-Йорк!?
Сонет Серебряного века. В 2 томах. Том 2
Александр Федоров (1868-1949)
Из цикла ?Берега?
Нью-Йорк
Зверинец-город, скованный из стали
И камней. Сталь и камни без конца.
Они сдавили воздух и сердца
И небеса, как счастие, украли.
Ни ярких глаз, ни светлого лица,
В котором бы лучи весны блистали.
Бессмысленные камни здесь скрижали,
И золото – сияние венца.
Голодная стихия неустанно
Глотает жертвы алчней океана.
Все в золоте, во всем презренный торг.
Ни проблеска мечты, ни искры чувства.
Живет машина, умерло искусство.
Зверинец-город, мрачный Нью-Йорк!
Вран ?всегда? сидит на бюсте, я ?всегда? пишу в бумаге
тыща первый и две тыщи семьдесят девятый год.
Он с глазами, я с глазами. Оба смотрим в оба: гири
на Часах!.. И с градусами в наших чашах го-о-лод.
И ?всегда? Линор из ситца яды пьет в Нью-Йорке секса,
И Священного Союза
гимн! ВИКТОР СОСНОРА
Александр Межиров Из сборника ?Какая музыка была!? 2014 ?Нью-Йорка постепенное стиханье…?
Нью-Йорка постепенное стиханье.
Величественное стеканье тьмы.
Все это так. Но мы… но кто же мы?
Пыль на ветру и плесень на стакане.
Хуан Рамон Хименес СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
Перевод П. Грушко
ПОЗДНО НОЧЬЮ
Нью-Йорк словно вымер, — ни души!.. И я медленно бреду вниз по Пятой Авеню и громко пою. Порой останавливаюсь оглядеть большие и хитроумные замки; банков, витрины на переделке, транспаранты, которые колышутся в ночи… И возникает, наливается силой и ширится эхо, словно из огромного пустого резервуара, — эхо, которое доносится до моего рассеянного слуха, прилетев неведомо с какой улицы. Словно это усталые медленные шаги в небе, которые приближаются и никак не могут меня настичь. И я опять останавливаюсь, смотрю вверх и вниз. Никого, ничего. Выщербленная луна сырой весны, эхо и я.
Неожиданно, неведомо где, близко или вдали, словно одинокий карабинер, бредущий ветреным вечером по побережью Кастилии, — то ли точка, то ли дитя, то ли зверюшка, то ли карлик, то ли невесть что… Бредет… Вот-вот пройдет мимо. И когда я поворачиваю голову, я встречаюсь с его взглядом, влажным, черным, красным и желтым, который немного больше его лица: вот он — одинокий и какой есть. Старый хромой негр в невзрачном пальто и потертой шляпе церемонно приветствует меня улыбкой и удаляется вверх по Пятой… Меня охватывает беглая дрожь, и, засунув руки в карманы, я бреду дальше, подставив лицо желтой луне, — напеваю.
А отзвук шагов хромого негра, короля города, возвращается по небу в ночь, улетает на запад.
Нью-Йорк, 27 апреля
3
На искусственном острове,
в устье Невы — видишь: статуя
С газовым факелом,
прочнобетонная, созданная
По заказу народа,
а имя ей дали: “Осознанная
Необходимость”.
То есть Свобода…
Не та, что безвластье и дикость,
Не разбой, не разборки,
но и не та, что в Нью-Йорке
К небу тянется с факелом.
Сергей Стратановский АРИОН 2010
СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ
И тогда улицы Рима, Нью-Йорка или Мадрида
остаются пустыми, пугая эфирным псом
всех, кто ещё выжил в безумной корриде.
Корриде с вирусом.
Каменщику Хименесу пишет ответ Маргулин,
слегка от прочитанного охренев:
Сон разума рождает горгулий,
горгулья рождает небесный гнев.
И тогда, обезумев от страха, люди
возводят над домами кто склеп, кто курган,
и, разбив тишину, грохочут орудия,
и бомбы падают на Ракку, Белград и Луганск. Юрий Семецкий Первое прикосновение к эманациям разума Стихи РУ 2020
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ИВЕРСКИЙ СВЕТ 1984
МОНОЛОГ ВЕКА
Приближается век мой к закату
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.
Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит, как кирпич, в веках.
Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы,
не с начала, так от конца.
Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.
Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.
Ьейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили бога —
специален бог для битья.
А потом он летел к Нью-Йорку,
новогодний чтя ритуал,
и под ним зажигались елки,
когда только он пролетал.
Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии
мучительней соловей.
Провожайте мой век дубинами.
Он — собрание ваших бед.
Каков век, таков и поэт.
Извините меня, любимые,
у вас века другого нет.
Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
за одно отвечаю — мой.
КСЕНИЯ ДЬЯКОНОВА
Опубликовано в журнале Звезда, номер 9, 2014
* * *
Моей лучшей подруге приснилось вчера,
что она родила ребенка с козлиным копытом.
Ну а мне, почему мне снится всегда мура?
Что-то связанное с безденежьем или бытом,
к которому я не то чтобы уж совсем
никак, — но, конечно, все-таки без восторга…
Моя бывшая одноклассница перед тем
как уехать в Лос-Анджелес из Нью-Йорка,
написала мне: ?В Питер точно я не вернусь,
потому что меня обхамливают повсюду,
даже в Русском музее?. В детстве мы наизусть
на два голоса с ней читали Пабло Неруду
к удивленью прохожих — и как-то раз, посреди
?Оды мельнице?, провалились в сугроб по пояс.
Лишь она умела из жизни чужой уйти
не оглядываясь, точнее, не беспокоясь.
Евгений Степанов В одном неописуемом городе
Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 6, 2018
ФАУНА
Белки в Нью-Йорке.
Зайчики в Берлине.
Бакланы в Бургасе.
Чайки в Санкт-Петербурге.
Голуби во Флоренции.
Лягушки в Париже.
Крокодилы в Майами.
Еноты в Монреале.
Кошки в Стамбуле.
Мартышки в Дели.
И начальственные крысы, шакалы, гиены
Вперемешку с недобитыми соловьями
В одном неописуемом городе,
Который сейчас я не хочу называть.
2018
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ТЬМАТЬ 2007
РАУРА
Двухтысячные
ДBОЙНОЙ ЦИФЕРБЛАТ
В. М. Бограду
Мне незнакомец на границе
вручил, похожий на врача,
два циферблата, как глазницы, —
часы сыча, часы сыча.
Двухчашечные, как весы,
двойное время сообща,
идут на мне часы, часы
ЧАСЫЧАСЫЧАСЫЧА.
Четыре в Бруклине сейчас,
двенадцать – время Киржача.
Живём, от счастья осерчав
или – от горя хохоча?
Где время верное, Куратор? —
спрошу, в затылке почесав —
На государственных курантах
иль в человеческих часах?
С ожогом не бегу в санчасть —
мне бабка говорит: ?Поссы…?
Народ бывает прав подчас,
а после – Господи, спаси!
В Нью-Йорке ночь, в России день.
Геополитика смешна.
Джинсу надетую – раздень.
Не совпадают времена.
Я пойман временем двойным —
не от сыча, не от Картье —
моим – несчастным, и Твоим
от счастия накоротке.
Что, милая, налить тебе?
Шампанского или сырца?
На ОРТ и НТВ
часы сыча, часы сыча.
Над Балчугом и Цинциннати
в рубахах чёрной чесучи
горят двойные циферблаты
СЫЧАСЫЧАСЫЧАСЫ.
Двойные времена болят.
Но в подсознании моём
есть некий Третий Циферблат
и время верное – на нём.
НИКОЛАЙ ОЦУП (1894-1958) Кн. ОКЕАН ВРЕМЕНИ 1993
Осень
I. ?Осень осыпает листья…?
Осень осыпает листья —
Отменили трамвайные билеты
Пороша по первопутку —
Нафталин отрясается с шубы,
Ее достают из красного
Сундука, где она лежала летом —
Даже заяц к зиме красит шкуру!
Слишком долго домов не чинили —
Оползают песчаные дюны,
Осыпается штукатурка —
Ветер времени стены обветрил —
Это осень, Елена!
Я спешу в осеннем трамвае,
Он осыпал листья билетов,
И стоит кондуктор, как дерево
Голое под влажным ветром.
Покрывая птичий дискант
И позваниванья трамвая,
Слева ухнул каменный бас:
?Ты скажи, дом Зингера с шаром
Прозрачным на руках у женщин
Над стеклом и железом крыши,
Любишь ли ты позднюю осень??
И с пролета передней площадки
Гранитный дом Вавельберга
Мне сверкнул озерами стекол
Зеркальных с переливами такими,
Как на глади озер Женевских,
Когда в их холоде зыбком
Радуга изогнется.
Я услышал ответ, Елена:
?Мы ничем не хуже Монблана,
Может быть, поменьше и только,
Жаль тебе осеннего снега?
Пусть и наши кряжи белеют!
Есть архангелы-небоскребы
В райских кущах Нью-Йорка —
Эти не чета Гималаям:
Поживей каскадов брюзгливых
Освежают их паровозы —
На плато бетонных площадок
Садятся гарпии — птицы —
И проглатывают шум и ветер
Стальными клювами — винтами!
Мы печами делаем лето.
В наших раковинах плачет осень!
И я слышал, где-то на Охте
Фабрика одобрительно завыла
Протяжным гудком вечерним:
?Да, мы лучше гор сотворенных
Косолапым отцом Вселенной!?
А дома вздохнули так громко,
Как пролетный ветер в ущелье
Вздохами морского прибоя.
Ветер распластался словами:
?Для Поэта. Бога и Неба
Одинаковы и бессмертны
Здания и снежные кряжи,
Улицы и легкие реки,
Листопад, отмена билетов,
Нафталинный снег и пороша!?
Так я встретил осень, Елена!
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
8. * * *
Л. Мартынову
Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —
правила деленья!
А он забыл их —
правила деленья!
Забыл —
подумать —
правила деленья.
Ошибка!
Да!
Ошибка на доске!
Мы все сидим сегодня по-другому,
И слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.
Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
куда ушла из дому,
не знаем,
отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.
В костюме и немодном и неновом,
да, как всегда, немодном и неновом,—
спускается профессор в гардероб.
Он долго по карманам ищет номер:
?Ну что такое?
Где же этот номер?
А может быть,
не брал у вас я номер?
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю,
чтоб все перемешалось —
от запада
и до востока,
от зависти
и до восторга!
Я знаю — вы мне скажете:
?Где цельность??
О, в этом всем огромная есть ценность!
Я вам необходим.
Я доверху завален,
как сеном молодым
машина грузовая.
Лечу сквозь голоса,
сквозь ветки, свет и щебет,
и —
бабочки
в глаза,
и —
сено
прет
сквозь щели!
Да здравствуют движение, и жаркость,
и жадность,
торжествующая жадность!
Границы мне мешают...
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать утренним Парижем!
Хочу искусства разного,
как я!
Пусть мне искусство не дает житья
и обступает пусть со всех сторон...
Да я и так искусством осажден.
Из разных книг
Я в самом разном сам собой увиден.
Мне близки
и Есенин,
и Уитмен,
и Мусоргским охваченная сцена,
и девственные линии Гогена.
Мне нравится
и на коньках кататься,
и, черкая пером,
не спать ночей.
Мне нравится
в лицо врагу смеяться
и женщину нести через ручей.
Вгрызаюсь в книги
и дрова таскаю,
грущу,
чего-то смутного ищу
и алыми морозными кусками
арбуза августовского хрущу.
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
100. * * *
Ю. Нехорошееу
Появились евтушенковеды,
создали свой крошечный союз.
В этом никакой моей победы.
Я совсем невесело смеюсь.
Я поэт. Немножко даже критик
и прозаик без пяти минут.
Предлагают, что ни говорите,
даже завершить Литинститут.
Я фотографирую. Со вспышкой.
В главной роли снялся в синема.
Думал ли об этом я мальчишкой
на далекой станции Зима?
Говорят вокруг: он работяга.
То он про Нью-Йорк, то про Алтай.
Успокойтесь, право, ради бога:
я — замаскированный лентяй.
Вкалывал я, сам себе мешая,
и мозги свихнул я набекрень.
Наша подозрительно большая
работоспособность — это лень.
Дело не в писательской мозоли
на затекшем пальце и заду.
Есть в нас леность мысли, леность боли —
даже сострадаем на ходу.
От своих пустых трудов как в мыле,
яростно рифмуют кое-как
лодыри отечественной мысли
с напряженным видом работяг.
Не от этой ли духовной лени
на страницах, внешне боевых
что-то многовато оживленья,
что-то мало попросту живых
Нам писать не лень. Нам лень подумать.
Лень взорвать наш собственный покой.
Лень глаза смущенные потупить
перед нашей стыдною строкой.
А потом приходит к нам преступно
среди прочих пошлых дешевизн
лень простого честного поступка,
пальцем для других нешевелизм.
Вечность шепчет: поленись, помедли
оскорбить меня стихом своим,
может быть, главнейшее в поэте —
это — не написанное им.
Классики в бессмертье не ломились,—
шло оно за ними, словно тень.
Классики по-своему ленились,—
плохо написать им было лень.
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
105.МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Я учился не только у тех,
кто из рам золоченых лучился,
а у всех, кто на паспортном фото
и то не совсем получился.
Больше, чем у Толстого,
учился я с детства толково
у слепцов,
по вагонам хрипевших про графа Толстого.
У барака
учился я больше, чем у Пастернака.
Драка — это стихия моя,
и стихи мои в стиле ?баракко?.
Я уроки Есенина брал
в забегаловках у инвалидов,
раздиравших тельняшки,
все тайны свои немудреные выдав.
Маяковского ?лесенка?
столького мне не дарила,
как замызганных лестниц
штанами надраенные перила.
Я учился в Зиме
у моих молчаливейших бабок
не бояться порезов, царапин
и прочих других окарябок.
Я учился у дяди Андрея,
трехтонку гонявшего вместо бензина на чурках,
различать: кто — в залатанных катанках,
кто — в окантованных бурках.
У Четвертой Мещанской учился,
у Марьиной Рощи
быть стальнее ножа
и чинарика проще.
Пустыри — мои пастыри.
Очередь — вот моя матерь.
Я учился у всех огольцов,
кто меня колошматил.
Я учился прорыву
разбойного русского слова
не у профессоров,
а у взмокшего Севы Боброва.
Я учился
у бледных издерганных графоманов
с роковым содержаньем стихов
и пустым содержаньем карманов.
Я учился у всех чудаков с чердаков,
у закройщицы Алки,
целовавшей меня
в темной кухне ночной коммуналки.
Я учился
у созданной мною бетонщицы Нюшки,
для которой всю жизнь
собирал по России веснушки.
Нюшка — это я сам,
и все Нюшки России,
сотрясая Нью-Йорк и Париж
из меня голосили.
Сам я собран из родинок родины,
ссадин и шрамов,
колыбелей и кладбищ,
хибарок и храмов.
Первым шаром земным для меня
был без ниточки в нем заграничной
мяч тряпичный
с прилипшею крошкой кирпичной,
а когда я прорвался к земному,
уже настоящему шару,
я увидел — он тоже лоскутный
и тоже подвержен удару.
И я проклял кровавый футбол,
где играют планетой без судей и правил,
и любой лоскуточек планеты,
к нему прикоснувшись, прославил!
И я шел по планете,
как будто по Марьиной Роще гигантской,
и учился по лицам старух —
то вьетнамской, а то перуанской.
Я учился смекалке,
преподанной голью всемирной и рванью,
эскимосскому нюху во льдах,
итальянскому неуныванью.
Я учился у Гарлема
бедность не чувствовать бедной,
словно негр,
чье лицо лишь намазано кожею белой.
И я понял, что гнет большинство
на других свои шеи,
а в морщины тех шей
меньшинство укрывается, словно в траншеи.
И я понял, что долг большинства —
заклейменных проклятьем хозяев,—
из народных морщин
выбить всех окопавшихся в них негодяев!
Я клеймом большинства заклеймен.
Я хочу быть их кровом и пищей.
Я —лишь имя людей без имен.
Я — писатель всех тех, кто не пишет.
Я писатель,
которого создал читатель,
и я создал читателя.
Долг мой хоть чем-то оплачен.
Перед вами я весь —
ваш создатель и ваше созданье,
антология вас,
ваших жизней второе изданье.
Гол как сокол стою,
отвергая придворных портняжек мошенство,
воплощенное ваше
и собственное несовершенство.
Я стою на руинах
разрушенных мною Любовей.
Пепел дружб и надежд
охладело слетает с ладоней.
Немотою давясь
и пристроившись в очередь с краю,
за любого из вас,
как за Родину, я умираю.
От любви умираю
и вою от боли по-волчьи.
Если вас презираю —
себя самого еще больше.
Я без вас бы пропал.
Помогите мне быть настоящим,
чтобы вверх не упал,
не позволил пропасть всем пропащим.
Я — кошелка, собравшая всех,
кто с авоськой, кошелкой.
Как базарный фотограф,
я всех вас без счета нащелкал.
Я — ваш общий портрет,
где так много дописывать надо.
Ваши лица — мой Лувр,
мое тайное личное Прадо.
Я — как видеомагнитофон,
где заряжены вами кассеты.
Я — попытка чужих дневников
и попытка всемирно# газеты.
Вы себе написали
изгрызанной мной авторучкой.
Не хочу вас учить.
Я хочу быть всегда недоучкой.
Новобранцев весны надо мной эта потная битва,\мерным маршем идут облака к океану, как влажные флаги,\мое сердце насквозь тоже синей картечью пробито -\я умру как они, мне достанет на гибель отваги. Александр Алейник У меня на глазах зацветают деревья Нью-Йорка.
Мы доверчивы — фразою броской\ Нас Нью-Йорк привлекает и Лондон.\ Нам покажут портрет Новодворской —\ Мы поверим, что это — Джоконда. Надежда Полякова ?Нева? 2007, №11 Мы доверчивы — фразою броской
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ИВЕРСКИЙ СВЕТ 1984
ОДА НА ИЗБРАНИЕ
В НЬЮ-ЙОРКСКУЮ АКАДЕМИЮ
Я в Академию есмь избран.
?Год дэм?, — скажу я,
боже мой!
Всю жизнь борюсь с академизмом —
Теперь борюсь с самим собой.
Николай Алексеевич Тарусский (1903-1943) Знак земли: Собрание стихотворений 2012
Я ПЛЫВУ ВВЕРХ ПО ВАС-ЮГАНУ Стихотворения 1928–1934
МАТРОС И ТРАКТИРЩИК Поэма
Сумятица!
Шаг за шагом,
Они подбирались вплоть:
Столы, табуреты, старцы
Завыли:
?Чужак! Чужак!?
Уж воздуха не хватает.
Уж страха не побороть.
Уж кровь, как кузнечик, звонко
Трещит в висках и ушах.
Колдуют!
Да что бы это сказать им?
Каким словцом
Отделаться от наважденья?
Как быть, чтобы вой умолк?
Приблизились,
Окружили,
Охватывают кольцом.
И вот,
Раздувая ноздри,
Он бросил врагам:
?Нью-Йорк!?
Сонет Серебряного века. В 2 томах. Том 2
Александр Федоров (1868-1949)
Из цикла ?Берега?
Нью-Йорк
Зверинец-город, скованный из стали
И камней. Сталь и камни без конца.
Они сдавили воздух и сердца
И небеса, как счастие, украли.
Ни ярких глаз, ни светлого лица,
В котором бы лучи весны блистали.
Бессмысленные камни здесь скрижали,
И золото – сияние венца.
Голодная стихия неустанно
Глотает жертвы алчней океана.
Все в золоте, во всем презренный торг.
Ни проблеска мечты, ни искры чувства.
Живет машина, умерло искусство.
Зверинец-город, мрачный Нью-Йорк!
Вран ?всегда? сидит на бюсте, я ?всегда? пишу в бумаге
тыща первый и две тыщи семьдесят девятый год.
Он с глазами, я с глазами. Оба смотрим в оба: гири
на Часах!.. И с градусами в наших чашах го-о-лод.
И ?всегда? Линор из ситца яды пьет в Нью-Йорке секса,
И Священного Союза
гимн! ВИКТОР СОСНОРА
Александр Межиров Из сборника ?Какая музыка была!? 2014 ?Нью-Йорка постепенное стиханье…?
Нью-Йорка постепенное стиханье.
Величественное стеканье тьмы.
Все это так. Но мы… но кто же мы?
Пыль на ветру и плесень на стакане.
Хуан Рамон Хименес СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ
Перевод П. Грушко
ПОЗДНО НОЧЬЮ
Нью-Йорк словно вымер, — ни души!.. И я медленно бреду вниз по Пятой Авеню и громко пою. Порой останавливаюсь оглядеть большие и хитроумные замки; банков, витрины на переделке, транспаранты, которые колышутся в ночи… И возникает, наливается силой и ширится эхо, словно из огромного пустого резервуара, — эхо, которое доносится до моего рассеянного слуха, прилетев неведомо с какой улицы. Словно это усталые медленные шаги в небе, которые приближаются и никак не могут меня настичь. И я опять останавливаюсь, смотрю вверх и вниз. Никого, ничего. Выщербленная луна сырой весны, эхо и я.
Неожиданно, неведомо где, близко или вдали, словно одинокий карабинер, бредущий ветреным вечером по побережью Кастилии, — то ли точка, то ли дитя, то ли зверюшка, то ли карлик, то ли невесть что… Бредет… Вот-вот пройдет мимо. И когда я поворачиваю голову, я встречаюсь с его взглядом, влажным, черным, красным и желтым, который немного больше его лица: вот он — одинокий и какой есть. Старый хромой негр в невзрачном пальто и потертой шляпе церемонно приветствует меня улыбкой и удаляется вверх по Пятой… Меня охватывает беглая дрожь, и, засунув руки в карманы, я бреду дальше, подставив лицо желтой луне, — напеваю.
А отзвук шагов хромого негра, короля города, возвращается по небу в ночь, улетает на запад.
Нью-Йорк, 27 апреля
3
На искусственном острове,
в устье Невы — видишь: статуя
С газовым факелом,
прочнобетонная, созданная
По заказу народа,
а имя ей дали: “Осознанная
Необходимость”.
То есть Свобода…
Не та, что безвластье и дикость,
Не разбой, не разборки,
но и не та, что в Нью-Йорке
К небу тянется с факелом.
Сергей Стратановский АРИОН 2010
СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ
И тогда улицы Рима, Нью-Йорка или Мадрида
остаются пустыми, пугая эфирным псом
всех, кто ещё выжил в безумной корриде.
Корриде с вирусом.
Каменщику Хименесу пишет ответ Маргулин,
слегка от прочитанного охренев:
Сон разума рождает горгулий,
горгулья рождает небесный гнев.
И тогда, обезумев от страха, люди
возводят над домами кто склеп, кто курган,
и, разбив тишину, грохочут орудия,
и бомбы падают на Ракку, Белград и Луганск. Юрий Семецкий Первое прикосновение к эманациям разума Стихи РУ 2020
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ИВЕРСКИЙ СВЕТ 1984
МОНОЛОГ ВЕКА
Приближается век мой к закату
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.
Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит, как кирпич, в веках.
Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы,
не с начала, так от конца.
Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.
Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.
Ьейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили бога —
специален бог для битья.
А потом он летел к Нью-Йорку,
новогодний чтя ритуал,
и под ним зажигались елки,
когда только он пролетал.
Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии
мучительней соловей.
Провожайте мой век дубинами.
Он — собрание ваших бед.
Каков век, таков и поэт.
Извините меня, любимые,
у вас века другого нет.
Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
за одно отвечаю — мой.
КСЕНИЯ ДЬЯКОНОВА
Опубликовано в журнале Звезда, номер 9, 2014
* * *
Моей лучшей подруге приснилось вчера,
что она родила ребенка с козлиным копытом.
Ну а мне, почему мне снится всегда мура?
Что-то связанное с безденежьем или бытом,
к которому я не то чтобы уж совсем
никак, — но, конечно, все-таки без восторга…
Моя бывшая одноклассница перед тем
как уехать в Лос-Анджелес из Нью-Йорка,
написала мне: ?В Питер точно я не вернусь,
потому что меня обхамливают повсюду,
даже в Русском музее?. В детстве мы наизусть
на два голоса с ней читали Пабло Неруду
к удивленью прохожих — и как-то раз, посреди
?Оды мельнице?, провалились в сугроб по пояс.
Лишь она умела из жизни чужой уйти
не оглядываясь, точнее, не беспокоясь.
Евгений Степанов В одном неописуемом городе
Опубликовано в журнале Дети Ра, номер 6, 2018
ФАУНА
Белки в Нью-Йорке.
Зайчики в Берлине.
Бакланы в Бургасе.
Чайки в Санкт-Петербурге.
Голуби во Флоренции.
Лягушки в Париже.
Крокодилы в Майами.
Еноты в Монреале.
Кошки в Стамбуле.
Мартышки в Дели.
И начальственные крысы, шакалы, гиены
Вперемешку с недобитыми соловьями
В одном неописуемом городе,
Который сейчас я не хочу называть.
2018
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933-2010) Сб. ТЬМАТЬ 2007
РАУРА
Двухтысячные
ДBОЙНОЙ ЦИФЕРБЛАТ
В. М. Бограду
Мне незнакомец на границе
вручил, похожий на врача,
два циферблата, как глазницы, —
часы сыча, часы сыча.
Двухчашечные, как весы,
двойное время сообща,
идут на мне часы, часы
ЧАСЫЧАСЫЧАСЫЧА.
Четыре в Бруклине сейчас,
двенадцать – время Киржача.
Живём, от счастья осерчав
или – от горя хохоча?
Где время верное, Куратор? —
спрошу, в затылке почесав —
На государственных курантах
иль в человеческих часах?
С ожогом не бегу в санчасть —
мне бабка говорит: ?Поссы…?
Народ бывает прав подчас,
а после – Господи, спаси!
В Нью-Йорке ночь, в России день.
Геополитика смешна.
Джинсу надетую – раздень.
Не совпадают времена.
Я пойман временем двойным —
не от сыча, не от Картье —
моим – несчастным, и Твоим
от счастия накоротке.
Что, милая, налить тебе?
Шампанского или сырца?
На ОРТ и НТВ
часы сыча, часы сыча.
Над Балчугом и Цинциннати
в рубахах чёрной чесучи
горят двойные циферблаты
СЫЧАСЫЧАСЫЧАСЫ.
Двойные времена болят.
Но в подсознании моём
есть некий Третий Циферблат
и время верное – на нём.
НИКОЛАЙ ОЦУП (1894-1958) Кн. ОКЕАН ВРЕМЕНИ 1993
Осень
I. ?Осень осыпает листья…?
Осень осыпает листья —
Отменили трамвайные билеты
Пороша по первопутку —
Нафталин отрясается с шубы,
Ее достают из красного
Сундука, где она лежала летом —
Даже заяц к зиме красит шкуру!
Слишком долго домов не чинили —
Оползают песчаные дюны,
Осыпается штукатурка —
Ветер времени стены обветрил —
Это осень, Елена!
Я спешу в осеннем трамвае,
Он осыпал листья билетов,
И стоит кондуктор, как дерево
Голое под влажным ветром.
Покрывая птичий дискант
И позваниванья трамвая,
Слева ухнул каменный бас:
?Ты скажи, дом Зингера с шаром
Прозрачным на руках у женщин
Над стеклом и железом крыши,
Любишь ли ты позднюю осень??
И с пролета передней площадки
Гранитный дом Вавельберга
Мне сверкнул озерами стекол
Зеркальных с переливами такими,
Как на глади озер Женевских,
Когда в их холоде зыбком
Радуга изогнется.
Я услышал ответ, Елена:
?Мы ничем не хуже Монблана,
Может быть, поменьше и только,
Жаль тебе осеннего снега?
Пусть и наши кряжи белеют!
Есть архангелы-небоскребы
В райских кущах Нью-Йорка —
Эти не чета Гималаям:
Поживей каскадов брюзгливых
Освежают их паровозы —
На плато бетонных площадок
Садятся гарпии — птицы —
И проглатывают шум и ветер
Стальными клювами — винтами!
Мы печами делаем лето.
В наших раковинах плачет осень!
И я слышал, где-то на Охте
Фабрика одобрительно завыла
Протяжным гудком вечерним:
?Да, мы лучше гор сотворенных
Косолапым отцом Вселенной!?
А дома вздохнули так громко,
Как пролетный ветер в ущелье
Вздохами морского прибоя.
Ветер распластался словами:
?Для Поэта. Бога и Неба
Одинаковы и бессмертны
Здания и снежные кряжи,
Улицы и легкие реки,
Листопад, отмена билетов,
Нафталинный снег и пороша!?
Так я встретил осень, Елена!
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
8. * * *
Л. Мартынову
Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —
правила деленья!
А он забыл их —
правила деленья!
Забыл —
подумать —
правила деленья.
Ошибка!
Да!
Ошибка на доске!
Мы все сидим сегодня по-другому,
И слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.
Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
куда ушла из дому,
не знаем,
отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.
В костюме и немодном и неновом,
да, как всегда, немодном и неновом,—
спускается профессор в гардероб.
Он долго по карманам ищет номер:
?Ну что такое?
Где же этот номер?
А может быть,
не брал у вас я номер?
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю,
чтоб все перемешалось —
от запада
и до востока,
от зависти
и до восторга!
Я знаю — вы мне скажете:
?Где цельность??
О, в этом всем огромная есть ценность!
Я вам необходим.
Я доверху завален,
как сеном молодым
машина грузовая.
Лечу сквозь голоса,
сквозь ветки, свет и щебет,
и —
бабочки
в глаза,
и —
сено
прет
сквозь щели!
Да здравствуют движение, и жаркость,
и жадность,
торжествующая жадность!
Границы мне мешают...
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Мальчишкой,
на автобусе повисшим,
хочу проехать утренним Парижем!
Хочу искусства разного,
как я!
Пусть мне искусство не дает житья
и обступает пусть со всех сторон...
Да я и так искусством осажден.
Из разных книг
Я в самом разном сам собой увиден.
Мне близки
и Есенин,
и Уитмен,
и Мусоргским охваченная сцена,
и девственные линии Гогена.
Мне нравится
и на коньках кататься,
и, черкая пером,
не спать ночей.
Мне нравится
в лицо врагу смеяться
и женщину нести через ручей.
Вгрызаюсь в книги
и дрова таскаю,
грущу,
чего-то смутного ищу
и алыми морозными кусками
арбуза августовского хрущу.
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
100. * * *
Ю. Нехорошееу
Появились евтушенковеды,
создали свой крошечный союз.
В этом никакой моей победы.
Я совсем невесело смеюсь.
Я поэт. Немножко даже критик
и прозаик без пяти минут.
Предлагают, что ни говорите,
даже завершить Литинститут.
Я фотографирую. Со вспышкой.
В главной роли снялся в синема.
Думал ли об этом я мальчишкой
на далекой станции Зима?
Говорят вокруг: он работяга.
То он про Нью-Йорк, то про Алтай.
Успокойтесь, право, ради бога:
я — замаскированный лентяй.
Вкалывал я, сам себе мешая,
и мозги свихнул я набекрень.
Наша подозрительно большая
работоспособность — это лень.
Дело не в писательской мозоли
на затекшем пальце и заду.
Есть в нас леность мысли, леность боли —
даже сострадаем на ходу.
От своих пустых трудов как в мыле,
яростно рифмуют кое-как
лодыри отечественной мысли
с напряженным видом работяг.
Не от этой ли духовной лени
на страницах, внешне боевых
что-то многовато оживленья,
что-то мало попросту живых
Нам писать не лень. Нам лень подумать.
Лень взорвать наш собственный покой.
Лень глаза смущенные потупить
перед нашей стыдною строкой.
А потом приходит к нам преступно
среди прочих пошлых дешевизн
лень простого честного поступка,
пальцем для других нешевелизм.
Вечность шепчет: поленись, помедли
оскорбить меня стихом своим,
может быть, главнейшее в поэте —
это — не написанное им.
Классики в бессмертье не ломились,—
шло оно за ними, словно тень.
Классики по-своему ленились,—
плохо написать им было лень.
Евгений Евтушенко ?Зеленая калитка? 1990
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
105.МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Я учился не только у тех,
кто из рам золоченых лучился,
а у всех, кто на паспортном фото
и то не совсем получился.
Больше, чем у Толстого,
учился я с детства толково
у слепцов,
по вагонам хрипевших про графа Толстого.
У барака
учился я больше, чем у Пастернака.
Драка — это стихия моя,
и стихи мои в стиле ?баракко?.
Я уроки Есенина брал
в забегаловках у инвалидов,
раздиравших тельняшки,
все тайны свои немудреные выдав.
Маяковского ?лесенка?
столького мне не дарила,
как замызганных лестниц
штанами надраенные перила.
Я учился в Зиме
у моих молчаливейших бабок
не бояться порезов, царапин
и прочих других окарябок.
Я учился у дяди Андрея,
трехтонку гонявшего вместо бензина на чурках,
различать: кто — в залатанных катанках,
кто — в окантованных бурках.
У Четвертой Мещанской учился,
у Марьиной Рощи
быть стальнее ножа
и чинарика проще.
Пустыри — мои пастыри.
Очередь — вот моя матерь.
Я учился у всех огольцов,
кто меня колошматил.
Я учился прорыву
разбойного русского слова
не у профессоров,
а у взмокшего Севы Боброва.
Я учился
у бледных издерганных графоманов
с роковым содержаньем стихов
и пустым содержаньем карманов.
Я учился у всех чудаков с чердаков,
у закройщицы Алки,
целовавшей меня
в темной кухне ночной коммуналки.
Я учился
у созданной мною бетонщицы Нюшки,
для которой всю жизнь
собирал по России веснушки.
Нюшка — это я сам,
и все Нюшки России,
сотрясая Нью-Йорк и Париж
из меня голосили.
Сам я собран из родинок родины,
ссадин и шрамов,
колыбелей и кладбищ,
хибарок и храмов.
Первым шаром земным для меня
был без ниточки в нем заграничной
мяч тряпичный
с прилипшею крошкой кирпичной,
а когда я прорвался к земному,
уже настоящему шару,
я увидел — он тоже лоскутный
и тоже подвержен удару.
И я проклял кровавый футбол,
где играют планетой без судей и правил,
и любой лоскуточек планеты,
к нему прикоснувшись, прославил!
И я шел по планете,
как будто по Марьиной Роще гигантской,
и учился по лицам старух —
то вьетнамской, а то перуанской.
Я учился смекалке,
преподанной голью всемирной и рванью,
эскимосскому нюху во льдах,
итальянскому неуныванью.
Я учился у Гарлема
бедность не чувствовать бедной,
словно негр,
чье лицо лишь намазано кожею белой.
И я понял, что гнет большинство
на других свои шеи,
а в морщины тех шей
меньшинство укрывается, словно в траншеи.
И я понял, что долг большинства —
заклейменных проклятьем хозяев,—
из народных морщин
выбить всех окопавшихся в них негодяев!
Я клеймом большинства заклеймен.
Я хочу быть их кровом и пищей.
Я —лишь имя людей без имен.
Я — писатель всех тех, кто не пишет.
Я писатель,
которого создал читатель,
и я создал читателя.
Долг мой хоть чем-то оплачен.
Перед вами я весь —
ваш создатель и ваше созданье,
антология вас,
ваших жизней второе изданье.
Гол как сокол стою,
отвергая придворных портняжек мошенство,
воплощенное ваше
и собственное несовершенство.
Я стою на руинах
разрушенных мною Любовей.
Пепел дружб и надежд
охладело слетает с ладоней.
Немотою давясь
и пристроившись в очередь с краю,
за любого из вас,
как за Родину, я умираю.
От любви умираю
и вою от боли по-волчьи.
Если вас презираю —
себя самого еще больше.
Я без вас бы пропал.
Помогите мне быть настоящим,
чтобы вверх не упал,
не позволил пропасть всем пропащим.
Я — кошелка, собравшая всех,
кто с авоськой, кошелкой.
Как базарный фотограф,
я всех вас без счета нащелкал.
Я — ваш общий портрет,
где так много дописывать надо.
Ваши лица — мой Лувр,
мое тайное личное Прадо.
Я — как видеомагнитофон,
где заряжены вами кассеты.
Я — попытка чужих дневников
и попытка всемирно# газеты.
Вы себе написали
изгрызанной мной авторучкой.
Не хочу вас учить.
Я хочу быть всегда недоучкой.
Метки: